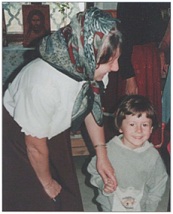В начале 1990 года моего отца, тогда еще совсем недавно рукоположенного иерея Сергия Казакова, назначили настоятелем в подмосковное село Анискино. Приехав на место своего нового служения, он увидел оскверненный и поруганный храм, а вернее — то, что от него осталось — отхожее место для местных пьяниц. Храм был отнесен к разряду зданий, не подлежащих восстановлению — в его стенах были огромные зияющие дыры, как от проехавшего сквозь них бульдозера.
Вначале богослужения проходили в небольшой сторожке неподалеку от храма. Эта сторожка состояла из одной небольшой комнатки, алтарь был отделен от основной части «домовой церкви» обычной занавеской. Прихожан было мало, денег на восстановление храма — еще меньше. Вместо подсвечников использовали емкости, наполненные песком, да и сами свечи купить было тоже большой проблемой. Нам отдавали из московских храмов те свечи, которые у них не догорели во время службы. Мы с мамой обрезали у них горелые концы, зачищали закопченые места, укорачивали их, чтобы они были примерно одного размера и потом уже использовали на наших богослужениях.
Папа нашел регента, но певчих найти не удалось, и нам с мамой пришлось помогать петь на клиросе. Вначале наш клирос состоял из регента, ее тринадцатилетней дочери, мамы и меня. Потом начали меняться регента, постепенно появлялись люди, желающие быть певчими. Приобретались навыки, пение становилось более слаженным.
На Благовещение Пресвятой Богородицы в том же 90-м году мы уже перешли для совершения богослужений в разрушенный храм. Здание, сплошь состоявшее из пробоин, было очень холодным. На каменный пол были постелены доски, мы одевали шубы и валенки, только так можно было стоять на службе.
-
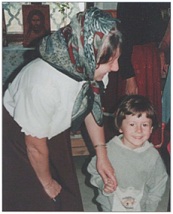
Матушка Наталья вместе с сыном Ваней. Сегодня Иван Казаков — студент богословского факультета ПСТГУ
В 1991 году у меня появился брат и ездить в храм мы стали только вдвоем с отцом, мама оставалась дома. Жили мы тогда в Москве и накануне служб ночевали на приходе — вначале нас пустила жительница деревни, позже нам отдали вагончик для рабочих, в котором мы и жили. Вагончик этот был, видимо, создан для тяжелых северных широт, где очень много снега, а потому был интересной обтекаемой формы — этакая «бочка» на высоких ножках. Когда поздно вечером папа делал земные поклоны, она вся содрогалась и я просыпалась.
С 1993 года меня решили еще больше приобщить к церковной практике и поставить регентовать хором. Я должна была самостоятельно, по имеющимся в моем распоряжении книгам, разобраться со строем службы и составить конспект. Потом меня учили регентовать так, как учат плавать. Помню свою первую литургию — регент встала в конец храма, оставив меня одну с певчими, а я толком и не знаю, что с ними всеми делать. Теперь понимаю, что это было сделано совершенно правильно — иначе бы не научилась.
Так, с 1993 года началась моя певческая деятельность. Потом — факультет церковного пения Православного Свято-Тихоновского Богословского института (ныне — университета), затем — создание хора в храме святой равноапостольной Марии Магдалины с. Улиткино, где и регентую поныне.
Анна Сергеевна Пуганова,
регент храма святой равноапостольной Марии Магдалины,
преподаватель Закона Божьего православной гимназии
при храме Рождества Богородицы с. Анискино,
дочь протоиерея Сергия Казакова
(432)